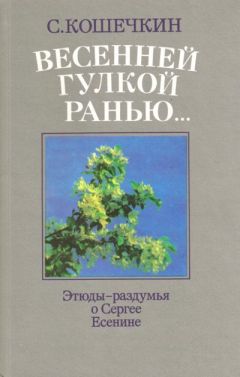Остановившись на улице, опричник хозяйственно распорядился:
— Ты ноне с пашней не заморачивайся. Я Алевтине накажу, коли до урожая не вернемся — пошлет косцов, хлеб уберут. Скотину заколи, закопти и в погреб. Лошадей с собой возьми, нам заводные сгодятся. Одну оставь, на всякий случай. Курей оставь, с ними хлопот мало. Поросенка одного разве… Иначе не управится с малым. Сена заготовил?
— Мало…
— Ну, это она купит. А дрова?
— Более-менее…
— Это хорошо. Лето впереди, но мало ли?.. Да и коли к зиме не вернемся, запас имеется. В лес ей ездить никак нельзя. Неровен час… И с собой ребятенка не возьмешь, и одного не оставишь. Ладно, готовься, два дня еще у тебя есть. А третьего дня к полудню в Каушту отправляйся, там встретимся.
— Понял, Семен Прокофьевич.
— Ну, давай, папаша, — хлопнул его по плечу Зализа и вскочил на коня.
Настроение у него ныне было, как никогда — первый, почитай, ребятенок при нем на его пожалованной земле рождается. Причем мальчишка. Причем крепкий мальчишка. Да еще у хорошего мужика. Хорошая примета. Если бы в других деревеньках так же заладилось… Глядишь, и детям поместье останется уже не из средних, а из крепких, способных и лихолетье выдержать, и ополчение царю сильное выставить, и свои рубежи уберечь. Теперь за Алевтиной очередь. Пусть рожает наследника, пора уже.
С этой мыслью и въехал он в ворота усадьбы, с ней и жену обнял, а затем решительно поволок наверх, в опочивальню, опрокинул на прикрытую балдахином кровать и полез под юбки.
— Что ты делаешь, Семен? — вяло попыталась отпихнуть его жена — День на дворе, пятница. Людей постыдись!
— А что, есть кого? — он влез головой под юбку и прижал ухо к животу.
— Нет пока, но…
— Но будет, — пообещал Зализа и принялся торопливо выпутываться из доспехов — крючки, застежки, ремни.
Алевтина не удержавшись, хихикнула в рукав:
— Вот так и останешься… С задранным подолом, и нетронутая…
Опричник только зарычал, спихивая кольчужные штаны вместе с кожаными подштанниками и путаясь в излишне плотных штанинах. Женщина присела в постели, вытянула руки и скользнула ими снизу под рубаху, погладила грудь, живот.
— Какой ты горячий… Кромешник…
Зализа наконец-то выбрался из штанов, шагнул к ней, снова опрокинул и наконец-то вошел, застонав от нетерпения, пытаясь пробиться как можно глубже, словно ища в силе своих толчков возмещения слишком долгим и частым отлучкам. Но непривычное к женскому теплу тело обмануло — и взорвалось восторгом через считанные, до обидного краткие мгновения.
— Ну что, охальник? — добродушно растрепала Алевтина волосы на его голове. — Обедать-то будешь? Тебя еще офеня почаповский искал…
— Не хочу, — Зализа вытянулся рядом с женой и сквозь сарафан сжал ей грудь. — То есть, офеню не хочу, обедать немного, а больше всего… Не пойду никуда отсюда! Два дня всего осталось, и опять в дорогу. Тебя хочу. Не для того замуж брал, чтобы только вспоминать на привале. Хочу, чтобы со мной была. И чтобы сына мне родила. Поскорее.
— Так возьми с собой, на Москву-то. Чай, не в Дикое поле собрался? — она немного выждала и, не получив ответа, мягко толкнула в лоб. — Эх ты, «поскорее», «чтобы рядом». Ладно, порты натяни. Пойдем, потчевать тебя буду, как муженька ненаглядного. А там, глядишь, и пятница кончится.
— Мне можно в пятницу, — внезапно вспомнил опричник. — Тем, кто на службе, Господь пост прощает.
Алевтина остановилась в дверях, с интересом оглянулась:
— Так что, можно не кормить?
— Почему не кормить? — Зализа поднялся, сгреб ее в объятия и крепко поцеловал немного ниже уха. — Кормить. Но «…не хлебом единым жив человек.»
* * *
Когда Зализа прибыл в Каушту, Нислав ждал его уже здесь. Опричник попал как раз ко времени обеда, и мог своими глазами убедиться, что обычаи его поселенцев — называть своих людей иноземцами ему более не хотелось — что обычаи эти по-прежнему мало отличались от монастырских.
Пользуясь теплым временем, они поставили возле своей уличной кухни еще один навес, а под ним — два стола. Жители поселка ныне сидели за этими столами все вместе, под мерный скрип лесопилки разбирая по тарелкам содержимое больших котлов. Пахло мясом, свежей стружкой и вареными грибами.
В глаза опричника сразу бросилось, что полонянки сидят отдельно, плотной стайкой в конце одного из столов, переглядываются и переговариваются только между собой. Правда, одна ливонка ковырялась на кухне у очага — но это ровным счетом ничего не меняло.
Нислав примостился между двух местных девок — Юлей и упитанной кухаркой. Помнится, Зинаидой ее звали. Служивый что-то им оживленно рассказывал. Судя по жестам — о младенце. Бабы завистливо смеялись и наперебой давали какие-то советы.
Боярин Константин, увидев гостя, заметно изменился в лице и встал.
Однако Зализа, делая вид, что и вовсе его не замечает, спрыгнул с коня, перекинул повод через бревно коновязи, отпустил подпругу, после чего спокойно подошел к столу и втиснулся между Ниславом и Зинаидой.
— Вы ему этого мха в штанишки напихивайте, и пускайте, — размахивая руками, советовала женщина. — Он впитывает все, как губка. И дезинфекционными качествами обладает. А потом нового напихаете.
— Нислав, зачем они пытаются напихать тебе в штаны болотный мох?
— То не мне, — зарделся воин под взрыв женского смеха. — То они малышу предлагают в штанишки пихать.
— Чьему?
— Моему.
— Так он же маленький совсем! — удивился опричник. — Ему полугода нет. Откуда штанишки? Кто же раньше пяти лет ребенку штаны одевает? Они же все писаются!
Женщины почему-то снова дружно захохотали, а замеченная опричником полонянка с кухни поднесла и поставила перед ним тарелку каши с мясом и грибами.
Зализа вытянул из-за пояса завернутую в тряпицу ложку, зачерпнул угощение, набрал себе полный рот.
— Вкусно!
Ему внезапно вспомнилось, как менялся его стол за последние два года. Когда он приехал сюда с двумя друзьями и они все вместе только-только пытались разобраться с житьем и законами помещичьего хозяйства, то на столе обычно стояла рассыпчатая каша на воде, да краюха хлеба, которою съедали целиком, и не морщились. Когда маленько приспособились, каша стала пахнуть салом, а на ломтях хлеба нет-нет, да и появлялся кусок убоины. Потом государеву власть почуяли местные офени и купцы, и каша стала разбавляться грибами, иногда свежей рыбой, к столу начали подаваться пряженцы и расстегаи. Когда он выследил и частью посек, а частью развесил вдоль дороги для успокоения путников две станишные ватаги — одну у тракта Новгородского, а другую у летника через Кипень, бояре начали привечать его и зазывать в гости, на столе стояла уже убоина, пироги и печеная птица. Хлеб они пользовали как тарелки, после чего скармливали собакам. Дома же Лукерия стала варить кашу уже только с мясом, и только по средам и пятницам Великого поста — с рыбой. Теперь же, окончательно осев в усадьбе боярина Волошина, он и вовсе начал забывать, каково это — питаться кашей? Ноне опричник баловался то свининкой свеженькой, то рыбкой копченой, то ушицей из яблок, да пряженцами. Такая вот получалась история его службы государю Ивану Васильевичу.
![Александр Прозоров - Царская дыба [= Государева дыба]](https://cdn.my-library.info/books/45450/45450.jpg)